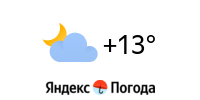Почему во время богослужения многие тексты читаются монотонно, без всякого выражения и зачастую нечленораздельно? Это плохая работа чтецов или так и положено, ведь есть давнее выражение «бубнит как пономарь»?
Чтение в храме должно быть четким и ясным, чтобы до присутствующих доходило каждое слово. При этом выдерживается ровная, спокойная интонация, которая способствует максимальному погружению в смысл сказанного. Божье слово должно быть воспринято человеком не на душевном, а на духовном уровне, поэтому при чтении псалмов, например, не практикуются какие либо драматические эффекты, модуляция голоса, театральная декламация.
Главную трудность для многих представляет не дикция чтеца, а то, что все тексты – на церковнославянском языке. Здесь есть два «рецепта».
Во-первых, регулярно ходить в храм: чем чаще бываете на службах, тем понятнее то, что на них читается.
Во-вторых, каждый может заранее ознакомиться с текстами богослужений на предстоящий день.
Кроме того, на службе можно держать перед глазами тексты литургии, всенощной, акафистов, это никак не противоречит Церковному уставу.
Протоиерей Максим Козлов
Длительными богослужениями Церковь настраивает нас на покаянный лад, и легче познать силу и мощь соборной церковной молитвы.
У многих вновь пришедших в храм вызывает недоумение, почему священники и чтецы читают молитвы бесстрастно, без эмоций – на одной ноте. Всем известна присказка: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой». Однако пономари так читают не потому, что им надоело сотый раз читать одни и те же молитвы, а потому, что их специально учат читать именно так – нараспев (то есть без «расстановки»), бесстрастно (то есть без «чувства») и без подчеркнутой назидательности (то есть без «толка»).
Дело в том, что в храм приходят разные люди, с разными нуждами и чувствами. Церковные молитвы (прежде всего – библейские Псалмы) содержат в себе всю палитру человеческих чувств – от гнева до умиления, от славословия до покаяния. Каждое богослужение несет в себе и радостные, и скорбные слова. Одновременно и равно глубоко прочувствовать всех их невозможно. Поэтому человек, пришедший в храм с радостью, – будет соразмерять движения своего молящегося сердца с радостными и благодарственными словами службы. Тот же, в чьем сердце в этот час слышнее звучит покаянный вздох, – будет в сердце своем слагать те слова покаяния, которые также рассыпаны по всей службе. Так вот, если пономарь будет читать «с выражением» – он будет подчеркивать в молитвах именно те места, которые лучше соответствуют его сиюминутному состоянию, а оно может отнюдь не совпадать с молитвенным настроем всех остальных прихожан. Ему сегодня грустно – и он будет наскоро проглатывать радостные восклицания и акцентировать покаянные. Ему стало веселее – и вот уже покаянная боль не доносится им до прихожан. Выделение любой из тем в симфонии богослужения неизбежно приведет к тому, что кто-то из пришедших окажется лишним в этот день. Он пришел с покаянным сокрушением – а ему навязывают только «Аллилуйю».
Представьте, что было бы, если бы Шестопсалмие псаломщик начал читать «с выражением»! Остальным молиться было бы уже нельзя – настроения и предпочтения чтеца были бы навязаны всем. Монотонное чтение пономаря, вошедшее в поговорку, защищает свободу молитвенного труда слушающих. Именно «чужие слова» оставляют гораздо больше свободы для собственного построения своей молитвы человеком, чем «импровизация». Вообще же, цель православного богослужения не в том, чтобы возбуждать какие-то чувства, а в том, чтобы преображать их.
Диакон Андрей Кураев


 Чудесное исцеление митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры по молитвам к святителю крымскому и исповеднику Луке
Чудесное исцеление митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры по молитвам к святителю крымскому и исповеднику Луке Чудотворное исцеление ребенка по молитвам к свт. Луке в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
Чудотворное исцеление ребенка по молитвам к свт. Луке в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
 В момент установки нового креста на купол храма над крестами стал кружить белый голубь. Верующие восприняли это как чудо, как знак свыше
В момент установки нового креста на купол храма над крестами стал кружить белый голубь. Верующие восприняли это как чудо, как знак свыше Пресвятая Богородица в День иконы Божией Матери «Путеводительница» свершила еще одно чудо – спасла жизнь 148 людям в аэропорту «Симферополь»
Пресвятая Богородица в День иконы Божией Матери «Путеводительница» свершила еще одно чудо – спасла жизнь 148 людям в аэропорту «Симферополь»